Страница 5 из 85
Между тем еще и еще раз мигнул трогательный в своей малости дальний огонек. Трогательный и будто бы слабый, но колючий, ощетинившийся лучиками, как алмазная пылинка, словно сама по себе излучающая свет. А на мысе Меганом высветилась своя пылинка, и это было как в стихах, где «звезда с звездою говорит».
Открывавшийся обзор был поразителен. В Крыму несколько таких мест, откуда можно глянуть на мир с высоты птичьего полета, и Пастухов знал их все — Ай-Петри, Чатыр-Даг, Караби, но только здесь возникал этот эффект: подмигивающие неоновые рекламы, грохочущие через усилители ресторанные оркестры, фланирующие на набережных и центральных улицах шумные толпы были совсем рядом, над ними можно было п р о с т е р е т ь р у к у, и в то же время они казались словно отсеченными, отстраненными от тебя, существующими в другом измерении. Такое чувство возникало иногда, когда случалось глубокой ночью в заснувшем доме смотреть, приглушив звук, репортаж о каком-нибудь далеком до невероятности (вроде посадки на Луну) событии. Оно — событие — есть и в то же время его как бы и нет для тебя. Но здесь, в горах, эффект несовпадения был еще острее, его усиливали непривычный для городского жителя, нависший прямо над головой звездный шатер, разбросанные на побережье и невидимые друг для друга одинокие маяки, пружинящая под ногами кошмой целинная трава, прилепившийся к обрыву куст стланика, умчавшийся вниз олень, сама кажущаяся (конечно, только кажущаяся) первозданность этих мест.
— Знаешь, о ком я подумал?
— О тете Жене?
Пастухов кивнул: о ней. Кивнул, даже не удивившись тому, что оба думают так согласно. Это могло бы обрадовать как возвращение к прежнему, давнему. В детстве это было даже игрой, хотя родилось совершенно нечаянно после нескольких таких случаев: «Знаешь, о чем я думаю?» — и следовал ответ. Или: «Знаешь, что я вспомнила?» — и оказывалось, что он знал.
Как же трогательно они были близки друг другу в детстве, хотя разница в возрасте была большой, для детства — просто огромной. Пастухов уже бегал в пятый класс, когда на общей веранде, опоясывающей весь их дом, появилась белобрысая семилетняя девочка с челкой.
— Удивительно получается: лет двадцать, как нет человека…
— Без малого двадцать пять, — поправила Зоя.
— Вот видишь — даже двадцать пять. Четверть века. А до сих пор чувствуешь ее влияние на свою судьбу.
— О ком вы? — спросила Дама Треф.
— О моей тетке, нашем первом наставнике в этих горах.
— Первым был твой отец, — как бы возразила Зоя.
— Отец показал тропы, яйлу, — сказал Пастухов, — а видеть во всем целостную картину научила все-таки тетя Женя. Разве ее «крымский парадокс» не повернул всю твою жизнь?
Зоя пожала плечами: не знаю, мол; может, так, а может, и не так.
— Что еще за «крымский парадокс»? — спросила Дама Треф.
Спросила Пастухова, однако он сказал:
— Тут карты в руки нашей Зое Георгиевне…
«Крымский парадокс» был очередным и, кажется, последним увлечением тетки. Связан он был с глубокой древностью, а если точнее — с античными греками тех героических времен, когда они, греки, путешествуя на утлых суденышках по бурным морям, преодолевая пугающие пространства, раздвигали пределы ойкумены — известного им обитаемого мира. Заключался же парадокс в том, что греки, осваивая Крым, селились, если судить по тому, что мы знаем о них, в неприветливых, голых степных местах (Пантикапей, Херсонес), пренебрегая почему-то красивейшей и благодатнейшей частью полуострова — его Южным берегом. Странно.
«А пренебрегали ли?» — спросила однажды тетя Женя. А когда она спрашивала т а к, сам вопрос содержал ответ. Обычно это был даже не вопрос. Если она говорила: «Ты опять сбежал с уроков?» — то совсем не для того, чтобы установить истину — ей все было известно. И это — «пренебрегали ли?» — тоже содержало ответ.
Нет! Тысячу раз нет! Просто до сих пор никому здесь не попадались следы античных греческих поселений. Значит, надо искать и найти эти следы. Вскоре выяснилось, кстати, что незадолго до войны о том же настойчиво говорил и писал некий профессор. Он даже подсказывал, где надо искать: в речных долинах Ялты и Алушты.
И вообще оказалось, что вопрос вовсе не нов, просто тетушка первой так вот его окрестила: «крымский парадокс». А озадачивались многие. И обращали внимание на то же, что теперь занимало ее. Ну вот, к примеру, названия некоторых южнобережных мест. Наслоений в этих названиях множество. Как было кем-то подмечено: географические названия напоминают подчас янтарь, в котором застыли доисторические насекомые. Чья только речь не слышится в южнобережных названиях — отголоском, а то и прямо! И романские, и тюркские, и греческие корни. Однако греческие — как правило, относительно поздние. И вдруг будто сама древность — дохристианская, довизантийская — пахнула от слова П а р т е н и т. (В старых русских текстах писали и «Парфенит» — через фиту.) Парфенос — Дева — главная богиня Херсонеса, античного греческого города в Крыму. Парфениями называли празднества в ее честь. Сколько лет шли споры о том, где находится ее — Девы — легендарный храм!..
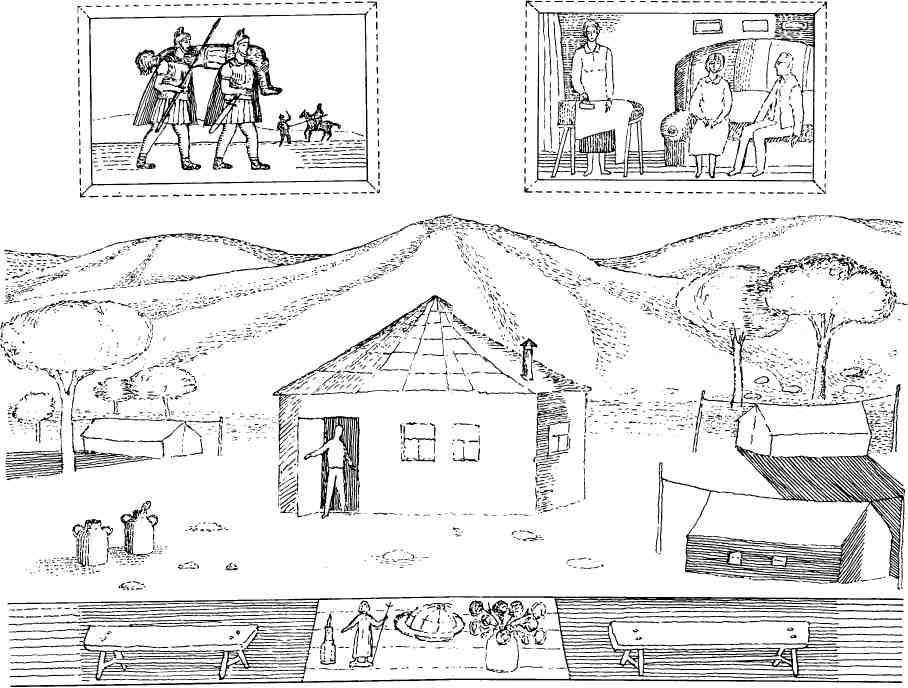
Однако с л о в о к д е л у н е п о д о ш ь е ш ь. Это тетя Женя понимала. В этом она была вполне современным человеком. Вокруг слова могут нагромоздиться другие слова, а толку? Примеров сколько угодно: древняя Атлантида, наша Земля Санникова. Надо искать м а т е р и а л ь н ы е о с т а т к и, как грубо называют обломки оружия, осколки терракоты, амфор и алтарей. Найти их она не успела, да, может, и вообще не смогла бы найти, но, так сказать, в з б у д о р а ж и л а ю н ы е с е р д ц а. Особенно Зоино. Это Пастухов и имел в виду.
Подумалось, однако, и другое: Партенит лежал сейчас у их ног, тихо светился левее невидимой в ночи Медведь-горы. Назывался поселок, правда, уже несколько десятилетий по-другому (еще одно словесное напластование, чем-то напоминающее очередной временной слой в археологическом раскопе), но суть от этого не менялась — это был он, он…
Пастухов был уверен — спроси он сейчас: «А знаешь, о чем я подумал?» — и Зоя покажет на эти почти призрачные (их заволакивал туман с моря) партенитские огни. Не успел спросить. Она сказала:
— А помнишь:
Ступаю по ступеням как по буквам,
А помыслы прозрачны и чисты.
Кричу взахлеб, что я еще приду к вам.
В руках две чаши, полные воды.
Зачем несу простую эту воду,
Не ключевую — из водопровода,
Успевшую степлиться на жаре?
Не знаю, но уверен, что недаром
Шагаю в высь, пропахшую нектаром,
Где боги не умеют умереть.
Как странно: им подвластны все народы,
И все богатства суши и морей,
А боги пожелали эту воду.
И с каждым шагом ноша тяжелей…[1]
До чего же это было неожиданно! Но бог с нею, неожиданностью — Пастухов не думал, что напоминание может оказаться таким острым — как удар. А всего-то ему напомнили полузабытые (да что там — совсем почти забытые) строчки. Они были для него сейчас и свои и чужие. Как женщина, которую любил, а потом вдруг встретил в пестром людском многолюдстве с другим. И было удивление оттого, что эти строки существуют сами по себе, независимо от него, ему не подчиняясь. Не так ли происходит и с нами самими, когда, чуть подросши, вырвавшись из любящих рук, мы спешим почувствовать свободу, не замечая полных тревоги глаз… Сейчас такую тревогу испытывал Пастухов.