Страница 9 из 10
— Старые?
— Нет, вы что? Лета молодых выбирала, сильных и выносливых.
— Их загнали? И что вы с ними сделали?
— Да, загнали, мы же спешили, а сделали… ну одна вроде оклемалась, а вот другую, да, пришлось прирезать, запалилась и копыто разбила.
— А сколько ей лет было?
— Не… а нет, Лета как-то сказала… Отличный четырехлетний мерин.
— Вот видишь, дядя Лютер, где-то безвестно погиб молодой конь четырёх лет от роду ради того, чтобы доставить гонца, разбил ногу, но его не стали лечить, потому что затратно и бесполезно. А представь, что ногу сломал кентавр, его что, тоже резать? А лошади сорок лет живут.
— Сорок лет…
Лиза вставила:
— У нас одна кобылица шестьдесять три года живет и помирать не собирается, весьма почтенная мадам, окруженная целым табуном из внуков и правнуков, все жеребята её любят и называют Общая Мама.
— Да! — подхватил я. — Красивая пожилая кобыла, соловой масти с белой гривой и хвостом, её Ромашкой зовут, из-за масти. А еще, дядя Лютер, лошади не любят прыгать.
— Как не любят? Они же первоклассные скакуны и прыгуны! Вы бы знали, сколько чудес они вытворяют на соревнованиях за первенство самой быстрой и самой прыгучей лошади.
— Они прыгают только потому, что их заставляют. Но на самом деле это больно. Прыгать через препятствия.
— Объясните, я не понимаю.
— Ну хорошо. Нога лошади это, по сути, палец. Сама лошадь весит четыреста-пятьсот кг. Во время прыжка, в полете, лошадь вытягивает вперед две передние ноги, но приземляется на одну из них… И вот представь себе, огромный вес, пятисоткилограммовый удар приходится на одну тоненькую лошадиную ножку. А добавь сюда еще и вес всадника. И это очень больно, именно во время прыжков лошади и ломают свои ноги. Лошади не могут об этом сказать, зато кентавры могут. И говорят.
— Но лошади прыгают…
— Конечно, они прыгают, ведь их заставляют при помощи уздечки, а от неё лошадки не могут избавиться, потому что они ремнями к голове прикручены. Кстати, прости, дядя Лютер, но ты как раз на уздечку и попался, келпи знают, как приманивать добычу, когда хотят поужинать человечиной.
Лютер вспомнил и передернулся, потом устало потер глаза и вздохнул:
— Н-да-а, ребятки, задали вы мне жару… Что же мне теперь, вообще на лошадь не садиться?
— Морона возьми.
— Эту… страхолюдину?
— Дядя Лютер, а давай я тебя отвезу домой!
— Дяденька Волчок, а зачем тебе уезжать? Оставайся здесь!
— Точно! Лиза, ты гений! Дядя Лютер, правда, оставайся!
В итоге, Лютер остался в Тихом доле, он присмотрел себе участочек неподалеку от дома Колеманов, да и обосновался, потихонечку, полегонечку обустроился.
Вместе мы навестили Ромашку, лошадиную долгожительницу, и, глядя на ладную, гладкую, холёную лошадку, Лютер не смог удержаться от слез. Он прекрасно понял огромную пропасть между свободной, вольной лошадью и лошадью-пленницей.
Ему по-настоящему стало жаль погибшего молодого мерина.
Тем более что вольные лошади никогда не отказывали детям и с удовольствием катали их, маленьких, счастливых эльфят, на своих гладких и голых спинах, и головы их при этом были свободны, без уздечек.
А келпи в конце концов пришлось принести благодарность, ведь это из-за него дядя Лютер остался жить здесь, в Тихом доле. Мы все очень привязались к нему, полюбили этого славного человека-волка.
Особенно я, ведь у нас было приключение, общее, одно на двоих.
Последний полёт
Время текуче, время беспощадно, время равнодушно. Оно одинаково для всех и разно для каждого.
Если спешить и торопиться — оно едва ползет, а если просто живешь и ни о чем не думаешь — оно летит с космической скоростью.
И еще... время — бесповоротно, его нельзя повернуть вспять, оно идет только вперед, и никакими силами — назад.
Тщетно пытаюсь вспомнить размеры мамы, но я её уже не помню, что-то огромное и полосатое…
Дело в том, что я продолжаю расти. Я уже больше самого большого коня. Да что там конь, я с элефанта. И с трудом помещаюсь в пещерке-гроте в саду Колеманов. И мне грустно, неужели придется покинуть это чудесное место? Не хочу…
Мой взор все чаще и чаще обращается на север, туда, где синеет едва видная цепочка гор Драконьего лога.
Что-то тянет меня туда, на Родину. Слетать, что ли? Но боязно, очень уж далеко…
И я отмахиваюсь от своих непонятных желаний. Несколько дней мечусь по долине, тоскуя непонятно по чему.
Отправляюсь к развалинам замка Горро, тихо брожу среди руин, забираюсь на остатки стен и бездумно смотрю в никуда. Я сам себя не понимаю, я не знаю, чего хочу…
Может быть, дракона? В смысле, драконицу. А где её взять?
Взгляд мой против воли снова устремляется к северу. Нет, точно пора. И, ни с кем не попрощавшись, просто вдруг ни с того ни с сего я срываюсь с места и лечу прочь, без горя и сожаления оставляя Тихий дол.
Дракон вырос, дракону пора уходить.
Долгий одинокий тихий, молчаливый полет. В одном месте, повинуясь голосу, сжигаю заросли мандрагор, ни к чему их столько… В другом краду бесплодную телочку, зря хозяин от неё потомство ждет… А так, ну съели её и съели.
Гору Лонглейдер нахожу сразу, её вершина самая длинная и самая белая, а вот и родное плато на Орлиной высоте. Задумчиво осматриваю старое логово — вот скорлупа старых яиц, вот кости, а здесь скала натерта до зеркального блеска, здесь лежало и грелось на солнце не одно поколение драконов.
А я что тут делаю? Я — самец, я-то с какого боку?
«Построй гнездо и приведи самку, оплодотворенную».
Еще самку искать…
«Не найдешь, сам станешь… самкой».
Эта странная мысль меня не пугает, я уже точно знаю, что я — гермафродит. Меня зовут Скайнесс, но я же и Несси, а это вполне женское имя.
Начинаю прибираться, выбрасываю старые кости, потом новые прибавятся, накопятся… Следующие несколько дней честно ищу самку, но их нету, то ли покинули эти горы, то ли вовсе истреблены…
Лежу на краю плато и наслаждаюсь… одиночеством, то есть тем, чего так боялся в детстве. Одиночество не страшно, это гармония с самим собой и окружающим миром, это тишина и покой, это ожидание чуда.
Перестройка организма это… болезненно, ненужные органы заменяются нужными, накопленный материал расходуется очень медленно и очень дозированно.
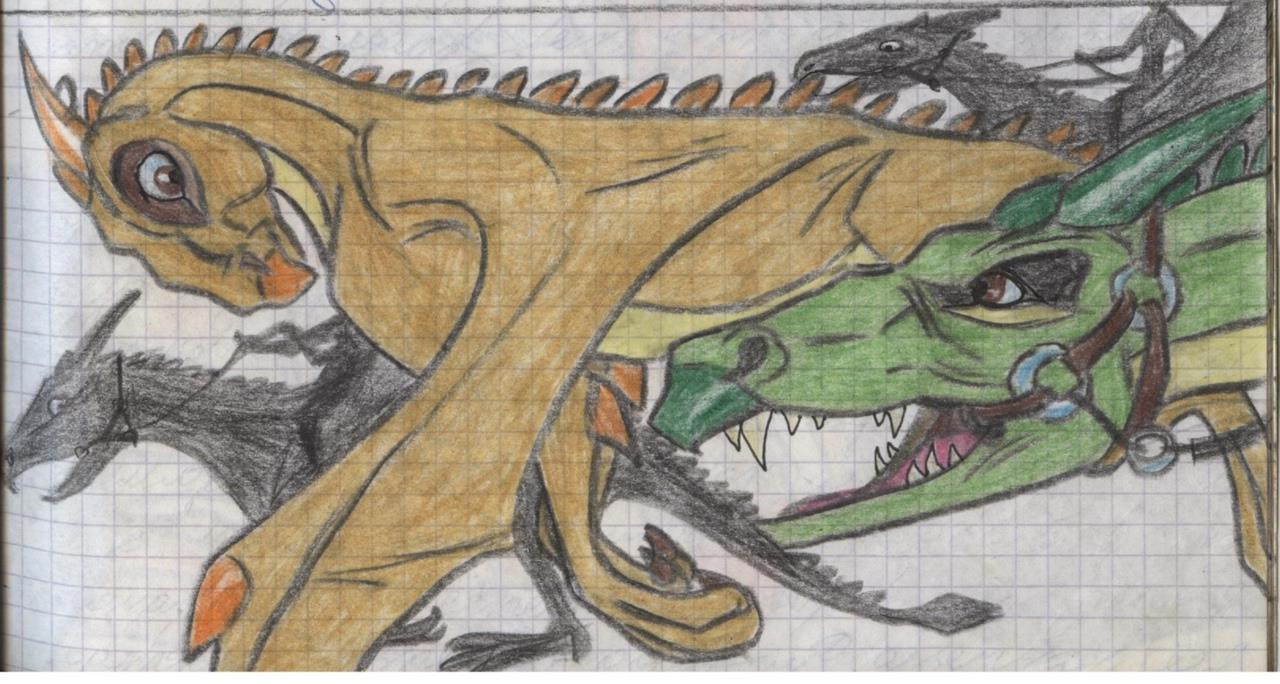
Оплодотворение произошло синхронно с появлением яйцевода, одновременно началась линька.
Я был ни там, ни здесь. Я узнала… узнал… неважно. Теперь я знаю, что такое звезды. Что такое космос.
А еще я поняла наконец, почему я родился один. Моя мама тоже была гермафродитом, она создала меня от самой себя.
Все тайны мироздания открылись мне. Все, кроме жизни до рождения и смерти, они остались за пределом.
И однажды мой покой нарушился. В одну из ночей на край плато опустился Джесси. Оглядел меня и, свирепо сощурившись, прошипел:
— Так и знал, что найду тебя здесь. Как тебе не стыдно? Они там похоронили его, оплакивают, а он, гад, прохлаждается… тут.
Я холодно спросил:
— Джесси Аркон, что происходит?
— Ах так! Я уже Джесси и даже Аркон, я больше не «дядя Джесси»? Ты засранец, Несси, очень большой засранец. Как ты посмел покинуть Тихий дол?
— Я не имею права вернуться домой?
— Ты не имел права покидать их!
— Кого?
Грифон подошел к стене, зачем-то постучался в неё головой, зло посмотрел на меня, скрипнул клювом и прорычал:
— Жителей долины, ты оставил жителей долины, Несси, ты оставил Калеба, Лизу и всех остальных. Они все думают, что ты умер и плачут по тебе.