Аннотация
Хоть убей, следа не видно,Сбились мы, что делать нам?В поле бес нас водит, видно,Да кружит по сторонам.Сколько их, куда их гонят,Что так жалобно поют?Домового ли хоронят,Ведьму ль замуж выдают?А. Пушкин
Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся.
Евангелие от Луки. Глава VIII, 32–36.Часть первая
Глава первая
Вместо введения: несколько подробностей из биографии многочтимого Степана Трофимовича Верховенского
IПриступая к описанию недавних и столь странных событий, происшедших в нашем, доселе ничем не отличавшемся г...


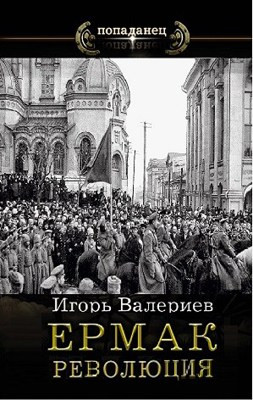




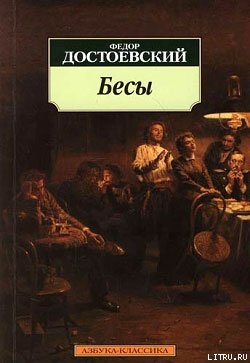








Отзывы
kittymara
31 октября
Надо написать... ... по свежим следам. Прочитала "Бесов" Достоевского. Странно, но как-то само собой, что из его великого пятикнижия загадочным образом читаю по порядку. "Преступление и наказание" "Идиот" "Бесы" "Подросток" "Братья Карамазовы" Причем, "Б.К." начинала, но забросила, как что-то толкнуло. В общем, до этого самым нелюбимым романом из пятерки у меня было "Пин". Сейчас "Бесы". Начинается роман как сатирический памфлет, оказывается, ФМ мог юморить (это было очень даже интересно читать), потом драма с трагедью. Не понравилось, что уделено слишком много внимания в общем-то проходным персонажам, таким как папаша Верховенский, а очень интересные, важные моменты, частенько связанные с героинями, прописаны мимоходом, автопробегом. Хм! Буквально все персонажи, когда открывали рот, напоминали помешанных в той или иной степени. Потом, конечно, ближе к финалу ФМ выкатил основную идею, что все эти бунтовщики отцы-либералы и дети-нигилисты - бесноватые, одержимые бесом, иначе мол не вели бы либеральных речей и террора по подрыву гос. устоев. Причем так грубо прописал, прям в лоб, прям в рот запихал разжеванное, не ожидала, честно. Вот не люблю Толстого, но он - великий мастер писать просто жизнь, без всякого разжеванного моралите. Читатель своим умом должен приходить к тому или иному выводу. Что еще поразило. Те, кто у власти, все это общество - они ведь точно такие же, одержимые бесами, мерзавцы. Но ФМ об этом умалчивает, выставляя всех этих зажравшихся господ - жертвами. Можно подумать, на Руси, благодаря всем им, была благодать. Ага, ну да, хаха. Все они - бесноватые. Все слои общества были больны, и существовало страшное неблагополучие, несправедливость, и народ бедствовал. И еще важный момент. ФМ, конечно, сам подвергся гражданской казни и побывал на каторге за то, что состоял во всех этих вольнодумских кружках, но его прихватили в самом начале предполагаемой карьеры революционера, и он на фоне тюрьмы и каторги ударился в христосанутость. Впрочем, это ладно, блин. Любой имеет право пересмотреть жизненные взгляды и установки. Однако, есть у него в "Б" персонаж, некий Шатов, который тоже разочаровался, ушел от движения, уверовал в бога, но не побежал доносить на бывших товарищей, хотя и раздумывал над этим. Однако ж, нет. А ФМ этим своим романом фактически настучал в какой-то мере. Ну, не уважаю я людей, которые начинают страстно обличать, когда сами замараны-с по самые ягодицы. Твое дело теперь - сторона, Федя. Ну, и о Ставрогине нельзя не написать. Марти-сью приветственно машет нам из наследия ФМ. Красавец, шизофреник, педофил, дамы любят поголовно, мужчины тоже и прям-таки и говорят ему: "Вы же знаете, что для меня значили, и продолжаете значить и все такое". Гомосаспенс для современного читателя налицо, должна заметить. В общем, он - этакий обаятельный, страдающий мерзавец-мажор, от скуки творящий мерзости, и тут же страдающий, и слабак, в общем-то, и не надо ему всей этой любви. Сам-то он любить даже себя не может, но хочет. И в этом его самая главная беда и страдание. Ах, да! Еще безусловный мазохист. Когда его все-таки накрыло после самоубийства растленной девочки, то непременно захотелось обнародовать случившееся. Самоистязания, исповеди ему было недостаточно. Нужно было, чтобы непременно унизиться, опуститься в глазах общество, стать изгоем, парией. Но что самое интересное, благодаря харизме и высокому положению, ему бы простили и даже оправдали. И после этого ФМ выставляет жертвами мерзавцев из правящего класса, ага. Ну, а сынок Верховенский вообще всех победил, так как выстроил все злодейства романа заради Николая Ставрогина. — Ставрогин, вы красавец! — вскричал Петр Степанович почти в упоении. — Знаете ли, что вы красавец! В вас всего дороже то, что вы иногда про это не знаете. О, я вас изучил! Я на вас часто сбоку, из угла гляжу! В вас даже есть простодушие и наивность, знаете ли вы это? Еще есть, есть! Вы, должно быть, страдаете, и страдаете искренно, от того простодушия. Я люблю красоту. Я нигилист, но люблю красоту. Разве нигилисты красоту не любят? Они только идолов не любят, ну а я люблю идола! Вы мой идол! Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят; вы смотрите всем ровней, и вас все боятся, это хорошо. К вам никто не подойдет вас потрепать по плечу. Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен! Вам ничего не значит пожертовать жизнью, и своею и чужою. Вы именно таков, какого надо. Мне, мне именно такого надо, как вы. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк... Он вдруг поцеловал у него руку. Холод прошел по спине Ставрогина, и он в испуге вырвал свою руку. Они остановились. — Помешанный! — прошептал Ставрогин. — Может, и брежу, может, и брежу! — подхватил тот скороговоркой, — но я выдумал первый шаг. Никогда Шигалеву не выдумать первый шаг. Много Шигалевых! Но один, один только человек в России изобрел первый шаг и знает, как его сделать. Этот человек я. Что вы глядите на меня? Мне вы, вы надобны, без вас я нуль. Без вас я муха, идея в стклянке, Колумб без Америки. Ставрогин стоял и пристально глядел в его безумные глаза. — Слушайте, мы сначала пустим смуту, — торопился ужасно Верховенский, поминутно схватывая Ставрогина за левый рукав. — Я уже вам говорил: мы проникнем в самый народ. Знаете ли, что мы уж и теперь ужасно сильны? Наши не те только, которые режут и жгут да делают классические выстрелы или кусаются. Такие только мешают. Я без дисциплины ничего не понимаю. Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха! Слушайте, я их всех сосчитал: учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв к, чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощущение, наши. Присяжные, оправдывающие преступников сплошь, наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают! С другой стороны, послушание школьников и дурачков достигло высшей черты; у наставников раздавлен пузырь с желчью; везде тщеславие размеров непомерных, аппетит зверский, неслыханный... Знаете ли, знаете ли, сколько мы одними готовыми идейками возьмем? Я поехал — свирепствовал тезис Littré, что преступление есть помешательство; приезжаю — и уже преступление не помешательство, а именно здравый-то смысл и есть, почти долг, по крайней мере благородный протест. «Ну как развитому убийце не убить, если ему денег надо!». Но это лишь ягодки. Русский бог уже спасовал пред «дешовкой». Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты, а на судах: «двести розог, или тащи ведро». О, дайте взрасти поколению! Жаль только, что некогда ждать, а то пусть бы они еще попьянее стали! Ах, как жаль, что нет пролетариев! Но будут, будут, к этому идет... — Жаль тоже, что мы поглупели, — пробормотал Ставрогин и двинулся прежнею дорогой. — Слушайте, я сам видел ребенка шести лет, который вел домой пьяную мать, а та его ругала скверными словами. Вы думаете, я этому рад? Когда в наши руки попадет, мы, пожалуй, и вылечим... если потребуется, мы на сорок лет в пустыню выгоним... Но одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь, — вот чего надо! А тут еще «свеженькой кровушки», чтоб попривык. Чего вы смеетесь? Я себе не противоречу. Я только филантропам и шигалевщине противоречу, а не себе. Я мошенник, а не социалист. Ха-ха-ха! Жаль только, что времени мало. Я Кармазинову обещал в мае начать, а к Покрову кончить. Скоро? Ха-ха! Знаете ли, что я вам скажу, Ставрогин: в русском народе до сих пор не было цинизма, хоть он и ругался скверными словами. Знаете ли, что этот раб крепостной больше себя уважал, чем Кармазинов себя? Его драли, а он своих богов отстоял, а Кармазинов не отстоял. — Ну, Верховенский, я в первый раз слушаю вас, и слушаю с изумлением, — промолвил Николай Всеволодович, — вы, стало быть, и впрямь не социалист, а какой-нибудь политический... честолюбец? — Мошенник, мошенник. Вас заботит, кто я такой? Я вам скажу сейчас, кто я такой, к тому и веду. Недаром же я у вас руку поцеловал. Но надо, чтоб и народ уверовал, что мы знаем, чего хотим, а что те только «машут дубиной и бьют по своим». Эх, кабы время! Одна беда — времени нет. Мы провозгласим разрушение... почему, почему, опять-таки, эта идейка так обаятельна! Но надо, надо косточки поразмять. Мы пустим пожары... Мы пустим легенды... Тут каждая шелудивая «кучка» пригодится. Я вам в этих же самых кучках таких охотников отыщу, что на всякий выстрел пойдут да еще за честь благодарны останутся. Ну-с, и начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам... Ну-с, тут-то мы и пустим... Кого? — Кого? — Ивана-Царевича. — Кого-о? — Ивана-Царевича; вас, вас! Ставрогин подумал с минуту. — Самозванца? — вдруг спросил он, в глубоком удивлении смотря на исступленного. — Э! так вот наконец ваш план. — Мы скажем, что он «скрывается», — тихо, каким-то любовным шепотом проговорил Верховенский, в самом деле как будто пьяный. — Знаете ли вы, что значит это словцо: «Он скрывается»? Но он явится, явится. Мы пустим легенду получше, чем у скопцов. Он есть, но никто не видал его. О, какую легенду можно пустить! А главное — новая сила идет. А ее-то и надо, по ней-то и плачут. Ну что в социализме: старые силы разрушил, а новых не внес. А тут сила, да еще какая, неслыханная! Нам ведь только на раз рычаг, чтобы землю поднять. Всё подымется! — Так это вы серьезно на меня рассчитывали? — усмехнулся злобно Ставрогин. — Чего вы смеетесь, и так злобно? Не пугайте меня. Я теперь как ребенок, меня можно до смерти испугать одною вот такою улыбкой. Слушайте, я вас никому не покажу, никому: так надо. Он есть, но никто не видал его, он скрывается. А знаете, что можно даже и показать из ста тысяч одному, например. И пойдет по всей земле: «Видели, видели». И Ивана Филипповича бога Саваофа видели, как он в колеснице на небо вознесся пред людьми, «собственными» глазами видели. А вы не Иван Филиппович; вы красавец, гордый, как бог, ничего для себя не ищущий, с ореолом жертвы, «скрывающийся». Главное, легенду! Вы их победите, взглянете и победите. Новую правду несет и «скрывается». А тут мы два-три соломоновских приговора пустим. Кучки-то, пятерки-то — газет не надо! Если из десяти тысяч одну только просьбу удовлетворить, то все пойдут с просьбами. В каждой волости каждый мужик будет знать, что есть, дескать, где-то такое дупло, куда просьбы опускать указано. И застонет стоном земля: «Новый правый закон идет», и взволнуется море, и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное. В первый раз! Строить мы будем, мы, одни мы! — Неистовство! — проговорил Ставрогин. — Почему, почему вы не хотите? Боитесь? Ведь я потому и схватился за вас, что вы ничего не боитесь. Неразумно, что ли? Да ведь я пока еще Колумб без Америки; разве Колумб без Америки разумен? Ставрогин молчал. Меж тем пришли к самому дому и остановились у подъезда. — Слушайте, — наклонился к его уху Верховенский, — я вам без денег; я кончу завтра с Марьей Тимофеевной... без денег, и завтра же приведу к вам Лизу. Хотите Лизу, завтра же? «Что он, вправду помешался?» — улыбнулся Ставрогин. Двери крыльца отворились. — Ставрогин, наша Америка? — схватил в последний раз его за руку Верховенский. — Зачем? — серьезно и строго проговорил Николай Всеволодович. — Охоты нет, так я и знал! — вскричал тот в порыве неистовой злобы. — Врете вы, дрянной, блудливый, изломанный барчонок, не верю, аппетит у вас волчий!.. Поймите же, что ваш счет теперь слишком велик, и не могу же я от вас отказаться! Нет на земле иного, как вы! Я вас с заграницы выдумал; выдумал, на вас же глядя. Если бы не глядел я на вас из угла, не пришло бы мне ничего в голову!.. Ставрогин, не отвечая, пошел вверх по лестнице. — Ставрогин! — крикнул ему вслед Верховенский, — даю вам день... ну два... ну три; больше трех не могу а там — ваш ответ! И самое главное, за что ставлю жирный минус роману. — Теперь прочитайте мне еще одно место... о свиньях, — произнес он вдруг. — Чего-с? — испугалась ужасно Софья Матвеевна. — О свиньях... это тут же... я помню, бесы вошли в свиней и все потонули. Прочтите мне это непременно; я вам после скажу, для чего. Я припомнить хочу буквально. Мне надо буквально. Софья Матвеевна знала Евангелие хорошо и тотчас отыскала от Луки то самое место, которое я и выставил эпиграфом к моей хронике. Приведу его здесь опять: «Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся». — Друг мой, — произнес Степан Трофимович в большом волнении, — ... это чудесное и... необыкновенное место было мне всю жизнь камнем преткновения... так что я это место еще с детства упомнил. Теперь же мне пришла одна мысль... Мне ужасно много приходит теперь мыслей: видите, это точь-в-точь как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, — это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века! Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности... и сами будут проситься войти в свиней. Да и вошли уже, может быть! Это мы, мы и те, и Петруша... и я, может быть, первый, во главе, и мы бросимся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море и все потонем, и туда нам дорога, потому что нас только на это ведь и хватит. Но больной исцелится и «сядет у ног Иисусовых»... и будут все глядеть с изумлением... Не бесноватость, не сумасшествие понуждают людей совершать неблаговидные поступки, творить мерзости. Это слишком простое, легкое объяснение, фактически индульгенция. Но ФМ именно к этому выводу и привел в финале. Однако человек сам делает выбор, сам ответственен за совершенное. Сам, сам, сам.